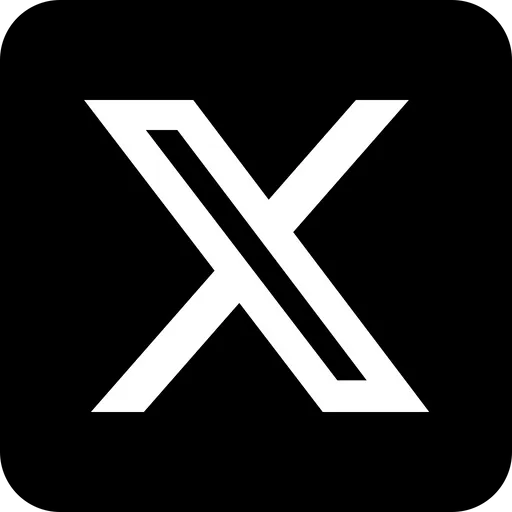Оружие Победы. Под залпы освободителей

Фронтовики за годы войны стали закалёнными солдатами, их воля и мужество не уступали в крепости оружейной стали. За каждой винтовкой и пулемётом, за каждым артиллерийским и танковым выстрелом, брошенной гранатой и гулом самолёта встаёт история человека, руки которого превращали боевую технику в грозную силу в жестокой битве с врагом.
Редакция газеты «Гомельские ведомости» совместно с Гомельским областным музеем военной славы продолжает проект, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны спустя многие годы прикоснутся к оружию, и их воспоминания оживут. Музейные экспонаты соединятся с фронтовыми историями свидетелей тех судьбоносных событий. И мы перенесёмся на поля сражений, пройдём по дорогам войны, чтобы вместе с воинами пережить все фронтовые испытания.
– Вот они, наши красавицы, – Пётр Мельников бросает взгляд на выстроившиеся в ряд орудия. – Эта 76-миллиметровая пушка, командиром расчёта которой я был, при стрельбе гремела ого-го! Особенно в боях под Бобруйском. Траектория полёта снаряда отличная. Да-а-а-а. С сорокапяткой, на которой мне тоже пришлось повоевать, не сравнить.
– Слышал, что с 45-миллиметровой пушкой опаснее всего было сражаться, – пытаюсь выяснить подробности.
– Мы её так и называли «Прощай, Родина». Помню, идём на передовую, а нам пехотинцы вслед кричат: «Прощай, Родина!» Я четыре сорокапятки в наступлении потерял и столько же боевых расчётов. Был трижды ранен. Чудом остался жив.
Когда мы подъезжаем к дому Петра Мельникова, он уже ждёт нас у подъезда. Садимся в машину, едем.
– На фронт я попал в 43-м году, – начинает свои воспоминания 91-летний ветеран. – Освобождал в составе 65-й армии родной Гомель.
– Тяжёлые были бои? – стараюсь, не теряя времени, расспросить фронтовика по пути в Гомельский областной музей военной славы.
– Немцы сопротивлялись фанатично. Перед началом сражения по громкоговорителю агитировали наших солдат сдаваться. «Командиры посылают вас на верную смерть, – вещали они. – Сдавайтесь! Мы дадим вам землю, хлеб». Каждый день это звучало на передовой. Потом фрицы включали русские вальсы «На сопках Манчжурии», «Амурские волны». Но у нас, знаете, такой патриотизм был, такой подъём душевных сил, что никакие увещевания немцев не действовали. И вот с боевым настроением в три часа ночи мы начали форсировать Днепр в районе Лоева. Я с командиром взвода и ещё двумя солдатами сел в небольшой рыбацкий чёлн. Лодка от нашего веса просела в воде, но мы всё же решили плыть. Когда достигли середины реки, немцы обнаружили нашу переправу. И давай бить по реке из всех орудий. Там столько народу погибло – страшное дело. Река была красная от крови. Наше судёнышко от поднявшихся волн перевернулось, и командир, не умевший плавать, пошёл ко дну. Я успел схватить его и вытащить из ледяной воды на берег. И только мы пошли в атаку, как я тут же получил ранение.
– Тяжёлое?
– Да нет, не очень. Хорошо, что в ногу. Знаете, воспитывался я при советской власти, был пионером, комсомольцем, коммунистом, считал себя атеистом, но перед боем всё равно молил Бога, чтобы меня в руку не ранило. Я ведь был гармонистом. Ребята после сражений всегда просили меня сыграть «Бьётся в тесной печурке огонь…» или «Синий платочек». Жизнь – есть жизнь. Я с фронта вернулся в 21 год. Молодой ещё совсем был. И, вы знаете, три ранения – и все в ноги. А руки целы, – Пётр Лаврентьевич вскидывает ладони. – Но вот последнее ранение в Польше у меня было очень тяжёлое. Осколком разбило сустав стопы. Он и сейчас не двигается. А было как? Солнечный день. Спокойный, тихий. И тут звучит первая команда: «Приготовить орудие к бою!», затем вторая: «Приготовиться к бою!» И тут у каждого бойца такое волнение наступает. У всех лица прямо багровеют от напряжения. Некоторые говорят, что всю войну прошли и не боялись, – это неправда. Если человек в атаку ходил, как я в пехоте, или был в составе боевого расчёта сорокапятки, куда меня перевели, то за три–четыре атаки такого бойца либо ранит, либо убьёт. Отдельным счастливчикам везло, но их были единицы. Так вот завязался бой. Я командую боевым расчётом 45-миллиметровой пушки – и раз! Столб песка, дым! Колёса пушки в сторону. Очнулся. Рядом лежит весь расчёт, кто где, все погибли. А моя шинель осколками посечена, и нога кровоточит. В общем, привезли меня в медсанбат. Занесли в огромную палатку. А рядом ещё коек 200 стоит, и на каждой раненый, и каждому делают операцию. Кому ногу пилят, кому кишки вправляют, кому руку ампутируют. И всё без обезболивающих. Крик стоит такой! Привязали меня к кровати. Медсестра стала у изголовья и начала расспрашивать, как зовут, откуда я. В это время хирург распорол сапог. А он весь наполнился запёкшейся кровью. Стали врачи с помощью магнита искать застрявшие в стопе осколки и вытаскивать их из ноги. Дальше ничего не помню. Очнулся я после страшного болевого шока. Пришёл в себя. А до этого пять суток ничего не ел. Медсёстры дали мне немножко супа гречневого с тушёнкой. Я всю жизнь потом пытался сварить такой замечательный суп, вкуснее которого никогда ничего не ел. И вы знаете, ни разу не получилось.
– А чем вы на фронте питались? – стараюсь выяснить гастрономические подробности.
– А когда не было чего есть, могли и конину сварить. Отрежем от бедра убитой лошади тяжеловоза кусок мяса. Варим часа три. А оно такое крепкое, укусишь, как пружина во рту. Не разжевать. Так мы его кубиками резали и глотали.
За разговором подъезжаем к музею и следуем во дворик к военной экспозиции под открытым небом. Несмотря на свой преклонный возраст Пётр Мельников бодро следует к выстроившимся в ряд пушкам. С первого взгляда находит своё орудие. Присаживается на станину 76-миллиметровой пушки и проводит пальцами по механизмам наведения и щиту.
– Эта пушка могла бить до 10 километров. Хорошо утюжила врага, – похлопывает ствол орудия Пётр Лаврентьевич, пока его рядом старается запечатлеть фотограф.
– Танки с её помощью подбивали? – интересуюсь.
– Я не видел, куда летели снаряды. Расстояние ведь большое. А вот когда на сорокапятке воевал, так по танкам били прицельно. Но сперва окапывали орудие. Работа это была тяжёлая – все руки в мозолях. А на ногах, кстати, ботинки с обмотками. Такая обувь была лучше сапог. Намотаешь до колена ткани метров 30. В воду или грязь вскочишь, а нога сухая. Но вернёмся к бою. Идёт, значит, на тебя танк. Подпустишь метров на 400. И бьёшь в основание башни, чтобы заклинила и не крутилась. Если промазал, то немцы скорее всего вычислят. У них хорошая оптика. И тогда пиши пропало. Только колёса от пушки в стороны летят. Чтобы наших потерь было как можно меньше, стреляли мы по немецкому танку перекрёстным огнём с двух, а то и с трёх пушек.
– И много так танков останавливали?
– Если бронебойными бить, так пять вражеских машин обязательно усадишь.
– Не страшно было сражаться на грани жизни и смерти?
– Страшно. И в пехоте было страшно. Помню, пошли мы за языком. А немцы сидели в сосняке в 300 метрах от нас. У них был обед. Кто в очереди к котлу стоял, кто на пеньке суп ел. Но они быстро опомнились. Завязался очень сильный бой. В результате из 170 человек нашей роты в строю осталось 12. Остальные или получили ранения, или погибли.
Но так было не всегда. Под Бобруйском фрицы уже от нас драпали. Обстреляли мы двухэтажное здание, где был немецкий штаб. Зашли в помещение. Слышу, кто-то на втором этаже копошится. Поднялся, а там гитлеровский полковник из сейфа документы себе в портфель пакует. «Хендэ хох!» – скомандовал я и отвёл под дулом автомата гитлеровского офицера в штаб. Освобождал я и лагеря смерти в Озаричах, где царила жуткая атмосфера, – груды мёртвых тел и пока ещё живых людей, умирающих от тифа. Освобождал Пинск, Рогачёв.
– А каким вам запомнился Гомель в ноябре 43-го года?
– Разрушен он был до основания. От кое-где сохранившихся домов остались одни коробки стен. Пришлось вылавливать немецких факельщиков, которые жгли при отступлении гитлеровских частей уцелевшие деревянные дома. Кого-то из них взяли в плен, а кого-то и расстреляли. А то, как нас встретили гомельчане, не передать словами. К нам выходили измождённые люди, целовали нас и обнимали. Последним хлебом делились. Такие слёзы радости текли, – при этих воспоминаниях глаза фронтовика становятся влажными. – 26 ноября для меня особенный день. Ведь я освободил свою малую родину.
На обратном пути в машине Пётр Лавреньевич с теплотой вспоминает свою семью – брата, который погиб под Москвой, командуя эскадрильей истребителей.
– Исключительный был человек. Героический парень. Играть на гармошке он меня научил, – добавляет фронтовик.
В память о нём Пётр Мельников вытатуировал на тыльной стороне ладони лётный шеврон, изображение которого, несмотря на прожитые годы, так и не стёрлось до конца с кожи. С особым теплом вспоминает ветеран свою жену. «После войны влюбился в одну девушку. Гомельчанку. Очень хорошую, замечательную. Такую теперь не встретишь. Мою Валентинку», – ветеран, расчувствовавшись, смахивает пальцем слезу.
И глядя на Петра Мельникова, понимаешь, что всё его поколение прошло войну и победило не только благодаря патриотизму, но и потому, что умели любить, чувствовать, сопереживать. Человечность, которая жила в сердцах миллионов солдат, таких как Пётр Лаврентьевич, помогла им вынести, выстоять, выдержать все испытания и победить.
Автор фото: Анна Пащенко